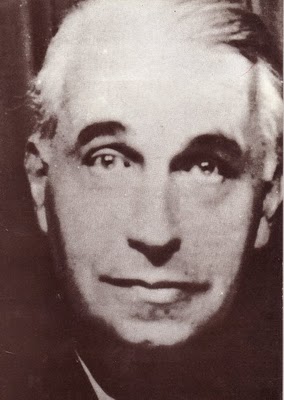 |
МОРИС БЛАНШО |
 |
|
СМЕРТЬ ПОСЛЕДНЕГО ПИСАТЕЛЯ |
||
|
перевод В. Лапицкого |
||
|
Можно поразмыслить о последнем писателе, вместе с которым, без ведома остальных, исчезло бы неброское таинство письма. Чтобы придать ситуации привкус фантастичности, можно вообразить, что этот Рембо, еще более мифический, чем Рембо подлинный, слышит, как в нем затихает умирающая вместе с ним речь. Можно, наконец, предположить, что в мире и в кругу цивилизации какимто образом почувствуется этот безвозвратный конец. Что за ним воспоследует? По видимости - глубочайшее безмолвие. Обычно так вежливо и изъясняются, когда умирает какойни-будь писатель: смолк голос, мысль рассеялась. Какое же настанет безмолвие, когда уже никто больше не заговорит столь импозантным образом - речью произведения в сопровождении ропота его репутации. Поразмыслим об этом. Такие эпохи существовали, будут существовать, такие вымыслы в некоторые моменты реальны в жизни каждого из нас. На удивление здравому смыслу, вдень, когда погаснет этот свет, не тишиной, но отступлением тишины, разрывом тишайшей толщи и приближением сквозь этот разрыв нового шума заявит о себе эра без речи. Ничего тяжкого, ничего шумного; едва только ропот, шепот, он и не прибавит ничего к великому городскому гаму. от которого, как нам кажется, мы так страдаем. Единственная его характеристика - он беспрерывен. Единожды услышанный, он уже не может перестать быть таковым, и поскольку его никогда понастоящему не расслышать, поскольку он ускользает от слуха, он ускользает и от всякого отвлечения, тем более присутствующий, чем более от него отворачиваешься: опережающий отголосок того, что сказано не было и никогда не будет. Тайная без тайны речь. Это не шум, хотя при его приближении все вокруг нас становится шумом (и нужно вспомнить, что сегодня мы и ведать не ведаем, что же такое шум). Это скорее речь: оно говорит, оно не перестает говорить, словно глаголет говорящая пустота, легкий шепот, настойчивый, безразличный, один и тот же, без сомнения, для всех, который не содержит тайны, секрета и, однако, изолирует каждого, отделяет его от других, от мира и от него самого, заманивая в насмехающиеся лабиринты, увлекая его все дальше и дальше неким зачаровывающим отвращением, затягивая под обыденный мир повседневных разговоров. Странность этой речи в том, что она, кажется, чтото говорит, в то время как она не говорит, быть может, ничего. Каждому, какою бы она ни была на удивление холодной, без интимности либо счастья, она, кажется, говорит ровно то, что, могло бы быть ему самым близким если бы он только мог хоть на мгновение ее удержать. Она не обманщица, ибо она не обещает и не говорит ничего, обращаясь всегда к одиночке, но безлично, обращаясь внутрь, но сама вовне, присутствующая в том единственном месте, где,слушая ее, можно было бы все расслышать; но оно нигде, повсюду; она не безмолвна, ибо это безмолвие, которое говорит, ставшее этой ложной речью, которой не слышно, этой тайной речью без тайны. Как заставить ее умолкнуть? Как ее расслышать, как не слушать? Она превращает дни в ночь, она делает из бессонных ночей пустую, пронизывающую грезу. Она подо всем, что говорится, за каждой привычной мыслью, затопляющая, поглощающая - хотя и неощутимо - почтенные людские разговоры, она третья в каждом диалоге, она повторяет каждый монолог. И ее монотонность могла бы внушить, что она царит терпимостью, что ока давит легкостью, что она рассеивает и растворяет все предметы как туман, отвращая людей от способности любить себя беспредметной зачарованностью, которой она подменяет любую страсть. Что же она такое? Речь человеческая? Божественная? Речь, которая не была произнесена и требует произнесения? Не мертвая ли это речь, какойто призрак, нежный, невинный и мучительный, каковыми бывают привидения? Не говорит ли это само отсутствие всякой речи? Никто не осмеливается это обсуждать или даже на это намекать. И каждый, скрытничая в одиночестве, ищет подходящий способ сделать ее тщетной, ее, которая только этого и требует: быть тщетной, все более и более тщетной - такова форма ее владычества. Писатель это тот, кто навязывает этой речи безмолвие, а литературное произведение для того, кто сумеет в него проникнуть это роскошная обитель безмолвия, прочная защита, высокая стена от говорящей этой безбрежности, которая адресуется нам, нас от нас отвращая. Если бы в воображаемом Тибете, где ни на ком не обнаружатся более священные знаки, вся литература прекратила бы говорить, в недостатке оказалось бы безмолвие, и именно эта нехватка безмолвия и обнаружит, быть может, исчезновение литературной речи. Перед каждым великим произведением пластического искусства несомненность особого безмолвия поражает нас, как не всегда оборачивающаяся покоем неожиданность: безмолвие чувственное, иногда авторитарное, иногда в высшей степени безразличное, иногда оживленное, одушевленное и радостное. И истинная книга - всегда немного и статуя. Она возникает и организуется как безмолвная сила, которая дает форму и прочность - безмолвию безмолвием. Могли бы возразить, что в том мире, где внезапно возникнет нехватка молчания искусства, и где утвердится темная нагота нулевой и чуждой речи, способной уничтожить все иные, еще будет иметь место, коли нет уже новых художником и писателей, сокровищница старых произведений, убежище Музеев и Библиотек, куда каждый сможет скрытно прокрасться на поиски капли спокойствия и безмолвного воздуха. Однако же, нужно, конечно, предположить, что в тот день, когда воцарится блуждающая речь, мы будем присутствовать при совершенно исключительных расстройствах во всех книгах: при отвоевывании ею произведений, которые ее когда-то, в некий миг, обуздали, и которые всегда были - более или менее - ее сообщниками, ибо она - их тайна. Во всякой законченной Библиотеке есть Ад, где покоятся книги, которых читать не должно. Но есть и в каждой настоящей книге другой ад, центр невнятицы, нечитаемости, где бодрствует и ждет окопавшаяся сила этой речи, которая там не одинока, нежное дуновение вечного переживания. Так что нет никакой дерзости в предположении, что мэтры этой эпохи и не подумают укрыться в Александрии, а предадут Библиотеку огню. Ну конечно, чудовищное отвращение к книгам охватит каждого: ярость против них, пылкая скорбь и то убогое насилие, которое наблюдается во все периоды слабости, и которое зовется диктатурой. Диктатор Диктатор - имя, которое заставляет призадуматься. Он - человек диктата, повелительного повторения, тот, кто всякий раз, когда о себе заявляет опасность чуждой речи, намеревается побороть ее строгостью командования - без возражений и без содержания. На самом же деле, он схож со своим провозглашенным противником. Шепоту без предела он противопоставляет четкость приказа, вкрадчивости неслышного - не допускающий возражений окрик;
жалостное скитание призрака из "Гамлета", который скитается
под землей, старый крот, то тут, то там, без сил и без судьбы,
он подменяет застывшей речью царственного разума, который командует
и никогда не сомневается. Но этот совершенный соперник, ниспосланный
провидением человек, призванный прикрыть своими окриками и железными
решениями туман двусмысленности призрачной речи, не ею ли он порожден
на самом деле? Не ее ли он пародия, еще более пустая, чем она сам,
маска, ее лживая реплика, когда молитвами уставших и несчастных людей,
чтобы избежать ужасного ропота отсутствия ужасного, но не обманчивого,
обращаются к присутствию категорического истукана, который требует лишь
покорности и обещает великое отдохновение внутренней глухоты? Нет писателя без подобного подхода, нет, если он не перенес стойко подобное испытание. Эта неговорящая речь очень похожа на вдохновение, но она с ним не совпадает: она ведет только в то единственное для каждого место ад, куда спускается Орфей, место рассеивания и несогласия, где вдруг нужно обратиться к ней лицом и найти - в себе, в ней и во всем опыте искусства - то, что преображает бессилие в мощь, заблуждение - в путь и неговорящую речь - в безмолвие, исходя из которого она и в самом деле может говорить и дать заговорить в себе истоку, не уничтожая людей.Современная литература. Современная литература Все это не так просто. Искушение, испытываемое сегодня литературой, приблизиться как можно больше к одинокому шепоту, связано со многими причинами, свойственными нашему времени, истории, самому движению искусства, и в результате оно почти заставляет нас услышать во всех выдающихся современных произведениях то, что нам пришлось бы услышать, если бы вдруг одним махом не стало ни искусства, ни литературы. Потомуто эти произведения уникальны, потому они и кажутся нам опасными, ведь они родились непосредственно из опасности и едва ее зачаровали.
Конечно же, есть много средств (как
и произведений и стилей) обуздать
пустынную речь. Риторика - одно из этих защитных
средств (действенно задуманное и даже дьявольски
налаженное), призванных отвести опасность, но также
и сделать ее необходимой и серьезной как раз в тех
самых точках, где отношения с нею могут стать легкими
и прибыльными. Но риторика прикрытие столь совершенное,
что она забывает, для чего она выстраивалась: не только
чтобы оттолкнуть, но и привлечь, от нее отворачиваясь,
говорящую безмерность, чтобы быть передовой линией среди
зыбучих песков, а не крохотным оплотом фантазии, который
приходят посетить по воскресеньям праздношатающиеся. У других есть тот нейтральный тон, то сглаживание и едва подернутая рябью прозрачность, в которых они, кажется, предлагают одинокой речи некий обузданный образ того, что она есть, словно ледяное зеркало, чтобы она попыталась в нем отразиться; но часто зеркало остается пустым. Дивный Мишо вот писатель, который ближе всего к себе соединился с чуждым голосом, и его посетило подозрение, что он попал в ловушку, что выражаемое здесь со спазмами юмора уже не его голос, но какойто голос, его имитирующий. Чтобы застигнуть его врасплох и захватить, у него имеются ресурсы удвоенного юмора, рассчитанная невинность, обходные маневры уверток, отступления, отказы и, в тот момент, когда он терпит крах, острие образа, которое пронзает завесу ропота. Предельная битва, чудесная победа но незаметная. Есть еще и болтовня; и то, что называют внутренним монологом, который, как хорошо известно, вовсе не воспроизводит того, что человек говорит самому себе, ибо человек с собой не разговаривает; и человеческая интимность не безмолвна, но чаще всего нема, сведена к нескольким разрозненным знакам. Внутренний монолог - очень приближенная имитация, причем, имитирующая лишь внешние черты безостановочного, беспрестанного потока неговорящей речи. Не забудем, сила последней в ее слабости, она не слышится, вот почему не перестаешь ее слышать, она близка, как только это возможно, к безмолвию, вот почему она его полностью разрушает. Наконец, внутренний монолог имеет центр, это "Я", которое притягивает все к себе, тогда как другая речь центра не имеет, она, по сути, блуждающа и всегда вовне. Нужно навязать ей безмолвие. Нужно препроводить ее к безмолвию, которое в ней есть. Нужно, чтобы в некоторый миг она забылась, чтобы смогла - тройным превращением - родиться истинная речь: речь Книги, скажет Малларме. |
||