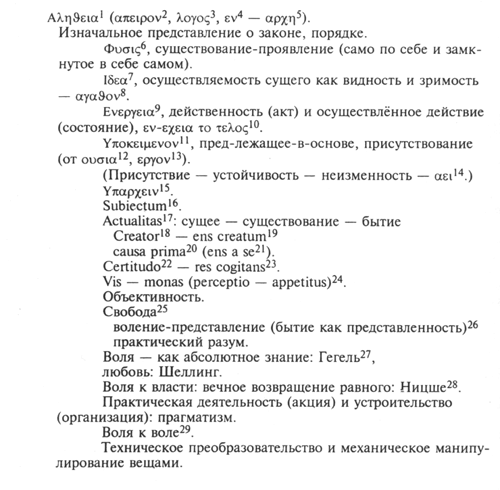РИЧАРД РОРТИ
ФИЛОСОФИЯ ХАЙДЕГГЕРА И ПРАГМАТИЗМ
[Предисловие И.Джохадзе опубликовано в #13 (Ред).]
Одно из принципиальных положений философской концепции
Хайдеггера, определяющих весь строй его размышлений, сводится к утверждению,
что всякого рода теоретическое философствование, которое исходит из платонических
предпосылок, с неизбежностью должно получить своё завершение и радикальное
выражение в прагматизме. Этот известный тезис, столь же спорный,
сколь и категоричный (как большинство философем Хайдеггера), заслуживает
серьёзного и критического продумывания. Но я сразу замечу, что его можно
было бы (в данном случае, в целях предпринимаемого мною исследования) принять
в качестве изначально достоверного — при условии, однако, если дать ему
верное и адекватное — с точки зрения прагматизма — истолкование. Дело в
том, что я понимаю прагматизм несколько иначе, чем Хайдеггер; я вижу в
нём, если позволительно так выразиться,
лучшее из возможных, положительное
«завершение» «всякого философствования». Я далее попытаюсь осмыслить,
в какой мере и каким образом философия Хайдеггера соотносится с концептами
прагматизма, и постараюсь также по возможности точно определить тот момент,
тот «пункт рассуждения», в котором расходятся пути прагматиста и ортодоксального
последователя Хайдеггера.
Истолкование хайдеггеровского тезиса, о котором
идёт речь, предполагает, прежде всего, определение платонизма в качестве
специфически «логоцентрической» установки такого онтологического исследования,
которое направлено на предельное постижение (в чём философ-теоретик и видит
задачу своего дела) некоей «подлинно сущей» реальности — Бытия, Истины,
Блага, Абсолютной идеи, Божества и т.п. В противоположность этому прагматизм
следовало бы определить как такое познание, которое, пользуясь выражением
Бэкона, предполагает целью «совершенствование условий и расширение возможностей
человеческого существования», т.е. ведёт нас к практическому установлению
более разумных и выигрышных отношений с предметами, составляющими нашу
среду. Хайдеггер утверждает, что сама платоническая парадигма, если брать
её за начало и основание философского исследования, открывает возможность
для интерпретации познания в духе Бэкона, сведения философии к прагматизму.
Хайдеггер рассуждает на эту тему, в частности, в «Очерках по истории бытия
как метафизики»[«Entwurfe zur Geschichte des Seins als Metaphysik» (M.
Heidegger. Nietyche II (Pfullingen: Neske, 1961), pp. 455 П". (Здесь
и далее Пер)], где он приводит классификацию категорий, или, скажем
мы, знаков речи, использовавшихся в разные времена западноевропейскими
философами для именования бытия. История философских истолкований бытия
прямо и «сущностно» отражает историю развития самой западной философии,
полагает Хайдеггер Вот эта рубрика, представляющая своего рода шифрованный
ребус:
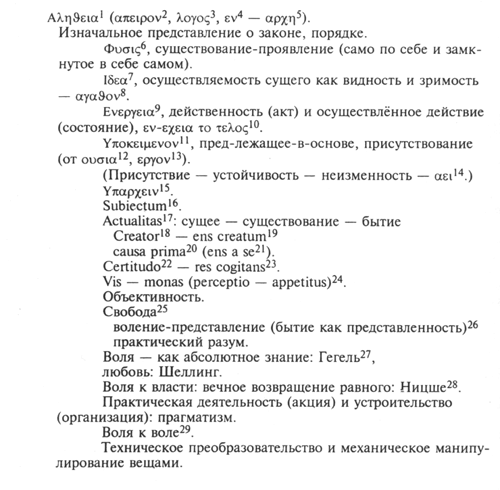
Итак, то, что «зашифровано» здесь, — это история западной метафизики.
Начало ей, как показывает Хайдеггер, было положено греческим истолкованием
бытия как архе, высшем организующем первопринципе сущего и познания
(т.е. и онтологическом, и гносеологическом «начале»), и разработкой логоцентрических
методов исследования. «Завершение» метафизики ознаменовано прагматизмом
с его инструмен-тально-техницистским истолкованием познания и ориентацией
на продуктивное действие. Хайдеггер усматривает в этой линии развития философии
(от Платона к Ницше и Дьюи) абсолютный регресс, движение по нисходящей.
Прагматизм Дьюи означает девальвацию того способа философствования, который
восходит к Аристотелю и Платону. Хайдеггер утверждает, что для того, чтобы
прояснить для себя духовную ситуацию эпохи, чтобы понять наконец, в чём
состоит существо того глубокого кризиса, который поразил философию, исчерпавшую
свои внутренние ресурсы, в XX веке, «нам необходимо прежде всего избавиться
от технического истолкования познания [как
tecnh процесса обдумывания на
службе у действия и делания]»
[М. Хайдеггер. Письмо о гуманизме. Цит. по: М. Хайдеггер. Время
и бытие (статьи и выступления). М., 1993; с. 193. ]. Начала последнего
(«технического истолкования» существа мысли), как отмечает Хайдеггер, «уходят
вглубь вплоть до Платона и Аристотеля»[Там же, с. 193.] Насколько
я понимаю, Хайдеггер придерживается здесь того же взгляда, что и Дьюи;
Дьюи, как известно, определил плато-ново-аристотелевскую интенцию как «поиск
устойчивой достоверности» [the quest for certainty]. Согласно Аристотелю
и Платону, предмет познания должен именно пред-стоять умозрению,
т.е. быть ясным, очевидным и недвусмысленно определённым, а полученное
знание о предмете — объективно достоверным и неопровержимым; лишь в случае,
если выдерживаются эти требования, познание достигает своей цели. «Вся
западная метафизика, — пишет Хайдеггер, — включая позитивистские учения,
связана с платонизмом и развивается в его русле»[М. Хайдеггер. Смерть
философии и предназначение мысли. Цит. по: R. Rorty. Essays on Heidegger
and others / Philosophical papers, volume 2. Cambridge, 1995; p. 29.].
В русле платонизма мы мыслим бытие и познание, представляя вещи «устойчивыми
и достоверными», — не такими, какие они есть (если вообще «есть»), а какими
их допускает к вниманию и узаконивает наше ясновидческое умозрение. Метафизика
мыслит, представляя, а не познавая. В истории метафизики
каждое направление, каждая серьёзная философская доктрина или система,
сменявшие одна другую, вызывались к жизни потребностью актуального перетолкования
старых непреходящих тем (бытие, мироздание, человек и смысл его жизни,
истина...) с неизменной целью утверждения более достоверного — в платоновском
понимании достоверности — знания [Таковым было и положившее начало философской
традиции Нового времени картезианство с его приматом субъекта как центра
системы репрезентаций и обращённостью к внутренней сфере познания, акцентированным
вниманием к человеческому «Я» (сознанию)]. Философское знание накоплялось,
систематизировалось, распространялось. Но... на определённом этапе познания
сделалось очевидным, что единственной подлинной достоверностью для нас
в действительности всегда служили лишь наши собственные желания и устремления,
наши чувствования и видения. Нам наконец открылась та истина, что «устойчивым
и достоверным» являлось философам всегда только то, во что им или удобно,
или выгодно было верить. Они мыслили, представляя и веруя, а не познавая.
Если мы (а «философы» — это мы, люди Запада)
поняли это, то отныне, чтобы сохранить [единственным возможным способом]
верность Платону и не изменить себе, мы должны сделаться прагматистами.
Иного пути нет. Мы должны теперь признать единственным критерием истины
— пользу, смыслом существования — свободу воления и возможность реализации
этой свободы. И достоверным для нас будет только то, что мы сами удостоверим,
действительным — признанное нами за таковое, значимым — то, что окажется
вписанным в наше представление, в составленную нами картину мира. Об этом
рассуждает Хайдеггер в одной из своих работ. «[Новоевропейская] картина
мира, сущностно понятая, — пишет он, — означает... не картину, изображающую
мир, а мир, понятый в смысле такой картины. Сущее в целом берётся теперь
так, что оно только тогда становится сущим, когда поставлено представляющим
и устанавливающим его человеком. Где дело доходит до картины мира, там
выносится кардинальное решение относительно сущего в целом. Бытие сущего
ищут и находят в представленности сущего» [М. Хайдеггер. Время картины
мира. Цит. по: Время и бытие. М., 1993; с. 49..]
«Поиск достоверного» приводит философию к прагматизму.
Чтобы до конца прояснить смысл этого события, вернёмся обратно к Платону
и вновь попытаемся проследить путь философской мысли от её истока до современности.
Платон — ив этом великая его заслуга перед западной метафизикой — впервые
выдвинул тезис о необходимости преодоления гносеологического скептицизма
в области философии. «Как вы можете доказать свою мысль?» — вот главный
вопрос, на который, по мнению Платона, должен уметь ответить каждый философ.
Знание не может не быть доказуемым. Скептицизм, отвергнув ре презентати
висте кую парадигму познания (истина как репрезентация бытия), свёл доказуемость
к простому установлению согласованности между взаимосвязанными представлениями
познания. В дальнейшем этот принцип получил развитие в системах Спинозы
и Лейбница. Кант узаконил его, ограничив круг философского рассмотрения
«внутренними объектами» — формами чувственности и категориями. Он придал
законченное и в некотором роде совершенное выражение тем метафизическим
положениям, что были продуманы до него Декартом 30.
Кантовское истолкование бытия, истин познания
и морали открывает путь к развёртыванию ценностной идеи в метафизике Ницше
(известный тезис Ницше о категориях разума как «средствах для обработки
мира в целях полезности»)
[Цит. по: Ф. Ницше. Воля к власти: опыт переоценки
всех ценностей. М , 1994; с.] и инстру.менталистской идеи в прагматизме
Дьюи (категории как интеллектуальные инструменты для решения актуальных
проблем). Признание онтологической относительности, изменчивости, неопределённости
всякого рода «априорных» форм познавательной деятельности — категорий,
логических понятий и мыслительных конструкций, а также всякого чувствования
и воления, — черта, роднящая перспективизм Ницше
31
с «концептуалистским прагматизмом» К. И. Льюиса. С точки зрения прагматизма,
замена одной исследовательской структуры другой возможна и исторически
неизбежна. Она имеет место тогда и лишь при том условии, когда и если через
неё обеспечивается для индивида (или группы индивидов, сообщества) возможность
более свободной и исчерпывающей реализации определённого рода планов и
устремлений, замыслов и проектов, относящихся к сфере практической жизнедеятельности
(опыта).
Допущение в качестве критериев «истинности»
таких моментов, как воление и желание, означает в конечном
счёте завершение и одновременно преодоление платонизма — той метафизической
парадигмы, что признаёт истинным лишь сверхчувственно-созерцательное познание,
и исключительно продукты его — подлинно значимыми и достоверными. Из этого
же допущения исходит прагматизм. Важно, однако, отметить, что этот переход
от платоново-аристотелевского понимания познания к прагматизму, от созерцания
к волению оказался возможен не потому, что платонизм как таковой исчерпал
себя — вовсе нет. Наоборот, он, этот «каперниканский переворот» в философии,
был предзнаменован самим же Платоном, отнёсшим доказуемость и достоверность
к разряду обяза-. тельных требований (условных характеристик) «истинного»
познания и тем самым подготовившим почву [в том числе и] для скептицизма.
Платон и Аристотель разработали тот универсальный метод философствования,
которым мы пользуемся по сей день, они же определили приоритеты и концептуальные
принципы познания, которых мы продолжаем придерживаться сегодня.
Метафизическое положение, определяющее преемственность
платонизма, скептицизма и прагматизма, демонстрируется и продумывается
Хайдеггером как методологический императив истинностной достоверности,
убедительности и очевидности в познании: истинность познания здесь рассчитывается
мерой целенаправленного усилия, прилагаемого познающим субъектом,
исследующим предмет, стремящимся достичь строгости и исчерпанности знания
через интуитивное постижение или посредством логических рассуждений, обеспечивающих
ему господствующее положение по отношению к чему-либо иному, отличному
— неистинному, непознаваемому или ложно познанному. Устремление
к овладению действительностью, к покорению мира и утверждению полного господства
субъекта над сущим выражает, по мысли Хаидеггера, подлинное существо западной
философии, культуры и самого мировосприятия западного человека — духовной
традиции, берущей начало от греков. Метафизика «воли к власти» (т.е., собственно
говоря, в качестве таковой произвольно интерпретируемая Хайдеггером философия
Ницше) и прагматизм, антиметафизический и технократический, — две формы,
обозначившие, наконец, полный упадок этой традиции, ознаменовавшие трагический
и абсурдный финал её исторического свершения.
Эпистемология Платона, его учение о разумной
природе человеческого существа и душе, в себе и из себя познающей истину
бытия, без сомнения, принадлежит этой философской традиции, как принадлежат
дереву питающие его соками жизни корни. Согласно учению Платона, душа обладает
познавательной силой постольку, поскольку она есть бессмертная сущность
небесного происхождения, сопричастная истинно сущему — идеям. Это
значит, что познающий субъект познаёт скорее себя, чем мир, ведь «объективное»
знание, к которому он стремится, как бы даровано ему от рождения, уже содержится
в нём. Речь также идёт о врождённой склонности к познанию и способности
правильно мыслить (чтобы «делом» мысли сделалось постижение Бытия
— истины, превосходящей человека, ей, однако, сопричастного). Речь идёт
о вере в разумного человека, мыслящего субъекта с его неограниченными познавательными
способностями. Серен Кьеркегор под термином «сократизм» в «Философских
крохах» даёт исчерпывающее определение этой метафизической позиции. «Сократической»
философии Кьеркегор противопоставляет христианское вероучение с его отрицанием
самодостаточности «разумного субъекта», обоснованием примата веры над разумом,
сведением познания к откровению. «Сократизм» же означает для Кьеркегора
нечто сравнимое с греховным заблуждением: греховно «отпадение» от Бога
и утверждение человеком себя на месте и в роли Бога, обожествление им себя
[Предельное выражение этой «сократической» парадигмы представляет собой
система Гегеля.]. Этой кьеркего-ровской темы касается в своих рассуждениях
и Мартин Хайдеггер. Однако, в отличие от Кьеркегора, он не проводит различия
между христианством и «сократизмом». Хайдеггер пытается доказать, что и
«сократизм» (гуманизм в самом широком смысле), и христианство принадлежат
одной традиции, исходят из общей метафизической предпосылки. И в том, и
в другом случае, с точки зрения Хайдеггера, имеет место преподчинение человека,
его воления и разумения, направляющей силе высшего гносеологического измерения:
«сократического» познания — логике строго доказательства, религиозного
верования — ясности и достоверности Божественного Откровения. Здесь субъект,
с необходимостью приемля и примеряя на себе требования господствующего
закона, одновременно сам стремится к достижению соразмерной «законности»
— достоверности и строгости познания, верования и воления. Признание достоверно-законным
всего «в-себе-истинного»,
господствующего над всем не-истинным (например,
интеллекта, господствующего над чувственностью, человеческой воли — над
стихийными силами природы или Божественной воли — над природой человека),
констатация и принятие самой возможности такого отношения господства-подчинения
(как в философии, так и в жизн] вообще) — это допущение является, как показывает
Хаидеггер, фундамен тальным для западной "онтотеологической традиции".
Говоря о необходимости "преодоления метафизики», он как раз имеет в виду
эту традицию
32.
К «онтотеологической» традиции относит Хаидеггер
и прагматизм Философия прагматизма, однако, будучи связана с традицией,
служит од' повременно и преодолению её: прагматизм проясняет существо этой
традиции и... развенчивает её — как бы доводя до предела и тем самым полагая
ей конец. В этом смысле прагматизм (хотя это и может показаться странным)
приемлется Хайдеггером — как «обличение» и «развенчание» метафизики, как
продолжение и завершение платонизма.
Действительно, идеи, развёрнутые Хайдеггером
в «Бытии и времени», вполне созвучны тезисам прагматизма. Хаидеггер, как
и Дьюи, выдвигает требование де-интеллектуализации познания; в инструменталист-ском
прагматизме последнее (т.е. познание) взаимосвязывается и отождествляется
с практикой (включая концепт «поиска достоверности») или опытом, а в фундаментальной
онтологии Хайдеггера — с бытием-человека-в-мире, экзистенцией. Вопрос о
достоверности, исчерпанности, объективности познания здесь уже не стоит
с прежней остротой и неотвязностью — он снимается, как не имеющий отношения
к делу философии.
В «Бытии и времени» Хаидеггер воспроизводит
традиционную для прагматизма аргументацию против Платона, Гегеля и позитивистов.
Критика касается «диалектики» Платона, историцизма Гегеля и сциентизма
позитивистов — метафизических доктрин, составляющих основу рационалистической
репрезентативистской парадигмы. Хаидеггер — как и Дьюи — отвергает эту
классически-репрезентативистскую дискурсивную установку. Он показывает,
что реализация требования объективности и достоверности познания, констатация
неопровержимой доказуемости, неизменной значимости и абсолютной ценности
его «истинных» продуктов, находящихся как бы по ту сторону опыта, — одним
словом, соблюдение норм философствования, установленных Платоном, Декартом,
Гегелем, исключает всякую возможность теоретического обоснования и осуществления
принципа подлинно свободного, живого, активного познания-конструирования,
направленного на преобразование познаваемой реальности в соответствии с
потребностями и проектами познающего субъекта.
«Поиск достоверности» можно также рассматривать
как вариант исследования, игнорирующего философскую проблему времени 33.
Хаидеггер пытается воспроизвести и внутренне осмыслить то изначальное представление
(первоощущение) времени, что было утрачено философией вследствие её обращения
к познанию вечного и неизменного, т.е. безвременного бытия. Это
восприятие-осмысление времени включает также и представление о случайности
[Contingency — [онтологическая] непредзаданность, непредустановленность],
изменчивости, произвольности всякого рода исследовательских (и любых иных
эмпирических) проектов и актов представление, несовместимое с «онтотеологической»
теорией и методологией познания. Ведь онтотеологическая традиция отождествляет
случайность (непредопределённость, произвольность какого-либо явления)
с «кажимостью», приравнивает её к «недостоверной», поверхностной чувственности
— видимости, которая будто бы может и должна быть исключена из исследования.
Отрицается, в частности, значимость слов, которые мы используем в речи,
ставится под сомнение смыслоносность лексических оборотов, синтаксических
связей и формул, структурирующих язык исследования. «Превосходство» философии
(именно «традиционной» философии, а не философии вообще) над поэзией заключается,
с точки зрения её апологетов, в том, что она мыслит, а не описует,
т.е. оставляет место для развёртывания мысли за счёт слова, принимает
в расчёт лишь её, мысль, как нечто изначальное, нечто такое, к чему отсылает
слово и что может быть выражено с одинаковым успехом и с равнозначной точностью
разными словами и предложениями на разных языках. В устной ли форме дано
изречение, в письменной ли, состоит ли оно из греческих, или немецких,
или английских предложений и слов — это, в сущности, для философа безразлично.
Ведь, с его точки зрения, слова — суть лишь формы, искусственные образования,
оболочки, в которые облекается некое содержание, несравненно более ценное
и весомое, чем звуки и знаки, из которых эти носители состоят. Философия
оперирует понятиями — устойчивыми смысловыми образованиями, или значениями;
для философии отнюдь не является проблемой выбор фонемы, тем более для
неё не существует проблемы метафоры. Понятие всегда устойчиво, всегда объективно.
Метафора — непереводимая, неопределимая (в смысле её «истинности» или «ложности»,
«верности» или «ошибочности»), эфемерная семантическая фикция — всегда
случайна и мимолётна. Она возникает из ничего и исчезает, не оставляя следа;
она есть, и её нет.
Так вот творчество Хайдеггера представляет
собой не что иное, как попытку «реабилитации поэзии», отвергнутой философией,
или, если угодно, попытку поэтизации философии. Показательно в этом отношении
следующее высказывание Хайдеггера в «Бытии и времени»:
«Дело философии в конечном счёте состоит в
том, чтобы прямо и целенаправленно содействовать сбережению и выявлению
смыслов тех простейших, исконных слов, в которых выговаривает себя
здесь-бытие [Dasein], и чтобы не дать обыденно-тривиальному пониманию сгладить
их до полной неразборчивости, которая, в свою очередь, функционирует в
практике как источник псевдопроблем» [М. Хайдеггер. Бытие и время. Цит.
по: R. Rorty. Essays on Heidegger and others. Cambridge, 1995; p. 34.]
Здесь понятие «неразборчивости» синонимично
«невоспри- им-чивости к языку», «неспособности прислушаться к слову», функционирующему
в повседневной речи. Слова, самые простые и неприметные, из тех, которые
мы употребляем чаще других и которые, в качестве инструментов речи, «удовлетворительно
служат» нам, — теряют для нас зачастую всякое значение, остаются неуслышанными,
непонятыми. Чтобы овладетьсловом с его потаённым смыслом, скрытым от восприятия,
нужно, считает Хайдеггер, прежде всего преодолеть современное отношение
к языку как к «орудию», техническому инструменту, служащему лишь для передачи
информации. Языком не достаточно пользоваться, его нужно ещё понимать.
А для этого, утверждает Хайдеггер, нам необходимо учиться у поэтов искусству
владения речью («сказания») — умению замечать язык, прислушиваться
к нему и каждое слово воспринимать как открытие, как незнакомую поэтическую
метафору. В этом умении и состоит мудрость философов — поэтов мысли
34.
Хайдеггер в одной из своих работ приводит
такую мысль: «Поэма бытия, что ещё только пишется, есть история человека»[М.
Хайдеггер. Поэзия, язык и мышление. Цит. по: R. Rony. Essays on Heidegger
and others. Cambridge, 1995; p.
35.]. Сочинение — дело поэзии; истолкование
того, что уже «написано» — назначение философии. В своих философских трудах,
в частности в «Очерках по истории бытия как метафизики», отрывок из которых
цитировался выше, Хайдеггер демонстрирует нам образец такого истолкования
— не бытия, а, так сказать, истолкования истолкования бытия, т.е. истории
человека (западного европейца в данном случае). Архе, физис, идея, монада,
перцепция — это не простое перечисление случайных и не связанных между
собой слов, выхваченных произвольно из разных исторических контекстов,
имевших хождение в разные эпохи и у разных народов. Здесь речь идёт о словах
(имевших изначальную ценность и обязательность не большую, но и
не меньшую, чем поэтические метафоры), запечатлевших в себе саму историю
человеческого бытия, т.е. словах «бытийных», самых коренных и исконных.
Здесь история западного человека, западной культуры и цивилизации осмысляется
через историю языка, вне которого существование этого человека, этой культуры
и этой цивилизации было бы немыслимо.
Однако, поскольку слова служат истолкованию
бытия, но не более, едва ли в данном случае имеет смысл говорить о действительной
«реальности» языка — его отнесённости к той первичной онтологической данности,
к Бытию, благодаря которой он, язык, будто бы только и делается возможным.
Никто не вкладывал этих слов (оЛпДею, (ристк;, ар^е...) в уста древних
греков, первых поэтов европейской истории, никто не нашёптывал им этих
речей; они возникли, как возникают метафоры — из ничего35.
И никакой невидимой тайной силы, вызвавшей к жизни слова-метафоры и продлившей
век тем из них, которыми мы пользуемся ныне (но уже не как живыми, а как
мёртвыми метафорами — терминами или понятиями), тоже не существует. Не
существует ничего, кроме мира и нас, несущих на себе бремя его понимания.
Осознать это — значит признать, что мы одиноки, заброшены и свободны, и
что эта свобода — единственная необходимость, с которой должно считаться.
Свободное бытие человека есть основание бытия мира. «Лишь постольку и до
тех пор, пока существует здесь-бытие [Dasein, «человеческое существование».]
(т.е. поскольку понимающее освоение бытия онтически возможно и претворимо
36),
«существует» и собственно Бытие» [М. Хайдеггер. Бытие и время. Цит.
по: R. Rorty. Essays on Heidegger and others Cambridge, 1995; p. 36.
], — пишет Хайдеггер. Эта мысль имеет принципиальное значение; в ней содержится
всё, что, будучи до конца продумано и усвоено, могло бы, по мнению Хайдеггера,
сподвигнуть нас к революционному шагу в философии — отказу от того онтологического
волюнтаризма (идеи господства силы, порядка, власти и «воли к власти»),
который был имплицитно присущ платонизму и получил эксплицитное выражение
в философии Ницше и (как он считает) в прагматизме.
Но тут снова встаёт вопрос о бытии. Если бытие,
как мы заключили, не есть некая «тайная сила», направляющая — исподволь
и непреложно — все наши действия, если это не источник и не средство осуществления
наших волюнтаристских проектов, — то что же тогда? До сих пор я «непродуманно»,
как выразился бы Хайдеггер, употреблял это понятие. Теперь я позволю себе
сделать небольшое отступление от темы своего рассуждения (проблемного сравнительного
анализа философии Хайдеггера и прагматизма), чтобы проследить в этом вопросе
движение мысли немецкого философа и попытаться, во-первых, понять, чем
руководствовался Хайдеггер, обращаясь к исследованию категории «бытия»
и затем непрестанно к нему возвращаясь, а во-вторых, предложить своего
рода прагматистскую квази-дефиницию этой пока «непродуманной» мною категории.
Хайдеггер, как мне представляется, ставит
«вопрос о бытии» и без конца возобновляет его, не предлагая ответа, не
потому, что он действительно ищет ответ на вопрос и не может найти, а потому
что вопрос сам по себе
безответен, неразрешим, т.к. для того, чтобы
ответить, необходимым критерием оценки и истолкования мы в данном случае
не располагаем, т.к.
бытие не принадлежит к разряду понятий или
«вещей», о которых можно что-либо определённое и исчерпывающее высказать.
Это понятие не поддаётся истолкованию; во всяком случае, научная (или наукообразная)
философия, оперирующая аксиомами и дефинициями, здесь бессильна. Вопрошая
о бытии, Хайдеггер акцентирует наше внимание на «преданной забвению» метафизической
теме, но не для того, чтобы склонить нас к исследованию её. Наоборот, он
даёт нам понять, что есть темы и области познания, запредельные для философии
и науки. Он также указывает на различие (впрочем, различие лишь формальное,
привнесённое, однако оказавшееся для западной культуры фатальным), существующее
между философией и поэзией, между двумя исследовательскими установками
— научно-философской (отвлечённая созерцательность, стремление-к упорядоченности
и систематичности, захваченность волей к власти — власти силы, закона,
разумного порядка) и художественно-поэтической (неразумность, случайность,
деконструктивная беспорядочность свободного творчества)37.
Хайдеггер пытается предугадать, что стало бы с нами и нашей культурой,
если бы поэзия, а не научная философия, как сложилось исторически, была
изначально учреждена над всеми прочими сферами человеческой жизнедеятельности
в качестве обязательной и абсолютной парадигмы продуктивного и полноценного
активизма. Об этом — вся философия Хайдеггера. Его рассуждения о бытии
представляют собой своего рода поэтические вариации на заданную (ещё древними
греками) тему — тему, фундаментальную для западной философии.
Обращение Хайдеггера к «онтотеологической
традиции», к продумыванию родословной философской категории «бытия», имеет
целью не восстановление связи с традицией и послушное следование ей, а
переосмысление [У Рорти:
redescribing — «редескрипция», переописание.]
этой традиции посредством деструктивного прояснения и адекватного истолкования
её существа38. Решающее
значение, как мне представляется, приобретает здесь проведённое Хайдеггером
отождествление философского дискурса (и основной метафизической интенции
— установки на поиск устойчиво-достоверной истины бытия) с поэтическим
творчеством — продуктивной интенцией свободного художника, творящего мир,
изобретающего и изменяющего вещи, — однако не сознающего себя в качестве
такового (т.е. как творца, создателя и носителя мира). В истолковании Хайдеггера
метафизика предстаёт своего рода «ущербной», неаутентичной разновидностью
поэзии [inauthentic form of poetry], в прямом смысле «не ведающей, что
творит».
Её сфера обширна и многопла-нова, но основное, из чего она состоит, — это
слова-метафоры, их сочетания и связи, слова, о псевдореальности которых
никто не догадывается. Это — категории бытия. Бытие есть именно то, о чём
они говорят: не «что», а «о чём». Само по себе оно не существует,
а только в слове и через слово. Однако поскольку исконные категории бытия
— слова-метафоры, которыми оперирует метафизика, как-то: «физис», «субъект»,
«воля к власти» и пр., — являются аббревиациями различных языковых систем,
было бы правильнее сказать, что бытие существует текстуально лишь
в отне-сённости к той или иной словарной структуре. Ещё раз: «Поэма
бытия» — это поэма о бытии, человеческая поэма. «Поскольку существует
здесь-бытие, т.е. освоение бытия онтически возможно и претворимо, «существует»
и собственно бытие».
Предельный язык [final vocabulary]
— тот основной словарный запас, без которого мы просто не имели бы возможности
изъясняться друг с другом, — содержит в себе всю исчерпывающую информацию
о бытии, доступную нам. Смыслозначимость употребляемой нами предельной
лексики не может быть опровергнута, так как для «критики языка» (как и
для решение «вопроса о бытии») мы не обладаем ни критериями оценки, ни
необходимым метасловарным запасом. Мы не можем также сопоставить высказывание
с предметом его, сравнить, что говорится, с тем, о чём ведётся
речь, определить, насколько одно «адекватно» другому, поскольку, как уже
было сказано, иного доступа к бытию, кроме собственно языка, не существует.
Всё наше знание о бытии полностью исчерпывается набором различных конвенционально-дескриптивных
интерпретаций его наименований. Большего нам знать не дано, да и необходимости
в том нет. Бессмысленно искать истину, сопоставляя одну интерпретацию с
другой и пытаясь определить, какая из двух наиболее предпочтительна: унификация
здесь неприемлема. Бытие не есть нечто единосущее и единообразное: множество
интерпретаций предполагает множественность бытия39.
Именно поэтому Хайдеггер настаивает на том, что его исследование западноевропейской
метафизики, т.е. истории философских истолкований бытия; является одновременно
и историей бытия. Здесь можно провести аналогию с математическими науками,
в частности с геометрией. Представления о пространстве и его свойствах,
фиксируемые в аксиомах и дефинициях геометрии, как известно, значительно
варьируются в зависимости от той или иной системы исчисления и являют собой,
по существу, описания абсолютно различных, несравнимых видов геометрических
пространств (пространства Евклида, Лобачевского, Римана и т.д.); вследствие
этого вопрос о характеристиках и измерениях пространства как «объективной
реальности»
и о том, существовало ли пространство как такая реальность прежде, чем
оно сделалось предметом изучения геометрии, и возможн- ли оно вообще, теряет
всякое значение, как вопрос антиисторичный. Сказанное выше о философии,
таким образом, справедливо и в отношении этой науки: история геометрии
точно так же является и историей пространства, как история метафизики —
историей бытия.
Итак, метафизик ставит своей задачей достижение
и обоснование «истинного знания» о бытии. Истинно, в его представлении,
то, что достоверно, доказуемо. Хайдеггер отмечает, что такое «истинное
знание», в действительности фиктивное, становится возможным и определяющим
там, где, как показывает опыт метафизики, имеет место смешение двух несовпадающих
величин, или планов существования, — сущего и бытия40.
В
сфере исследования, единственно доступной метафизике (и науке, в равной
степени не различающей сущее и бытие), — сфере представленно-сти и опредмеченности
сущего, действуют законы познания, позволяющие субъекту рассчитывать и
узакономеривать связи между предметами и явлениями (или, предположим, точками
и объектами в пространстве) в порядке, представляющемся ему наиболее уместным
или логически предпочтительным. Однако таким образом связывается лишь сущее
с сущим, но не сущее с бытием. Если последняя связь существует, то усилиями
философии она всё равно ни упрочняется, ни проясняется. Эмпирические данные
и слова, имеющиеся в нашем распоряжении, сами указывают на то, «о чём они
существуют», и философия ничего не может прибавить к этому имплицитно наличному
знанию.
Метафизика, и в этом, по мысли Хайдеггера,
её роковое заблуждение, отождествляет строгость исследования с эмпирической
точностью, адекватностью. Связь языка исследования с исследуемой и описываемой
реальностью, бытием, приравнивается к связи предложений наблюдения (типа
«небо голубое» или «зелёный луг») с представляемой данностью (голубизной
неба, зеленью луга). Критерии, позволяющие судить об истинности, т.е. адекватности
реальности подобного рода высказываний наблюдения, абсолютно недействительны
в отношении несущего языка философии — языка, названного нами «предельным».
Поэтому, как уже было отмечено выше, любые попытки сравнительного анализа
различных философских концепций бытия с целью выявления и обоснования преимущества
какой-то одной, наиболее «истинной» (в хайдеггеровском понимании истинности
как непотаённости) концепции в ряду прочих, «неистинных», — такие
попытки полностью лишены основания41.
К этому выводу, надо сказать, подводят нас рассуждения самого Хайдеггера,
если я верно перевожу его Seinsverstandnis как «предельный язык»
и Sein как «то, о чём язык существует». Истинная задача исследователя,
указывает он, состоит не в том, чтобы судить и выбирать, отдавая предпочтение
чему-то «лучшему» перед чем-то «худшим», а только в том, чтобы исследовать
закономерности развития мысли, обусловившие появление тех или иных её образцов,
«лучших» или «худших». И тут, в этом рассуждении, Хайдеггер вполне антиметафизичен,
а следовательно — историчен. Но трудность понимания философии Хайдеггера
заключается в том, что важнейший тезис его фундаментальной концепции —
тезис о «забвении бытия» и необходимости преодоления забвения — как раз
вступает в противоречие с исходной антиметафизической установкой его исследования.
Ведь греческой философии, стилю мышления древних греков и их языку Хайдеггер
приписывает черты «исключительной», «абсолютной» онтоло-гичности, степень
которой будто бы недоступна «ущербной» метафизике Нового времени, деонтологизировавшей
познание и предавшей забвению бытие. Значит, здесь проводится всё-таки
сравнение и противопоставление одной исследовательской парадигмы другой,
решается, и притом положительно и категорично, вопрос об исключительном
превосходстве какой-то определённой философской системы над другой системой.
Однако насколько в действительности обосновано подобное заключение, подлинно
ли исторично оно? Вот вопрос, на который я теперь, возвращаясь к
заглавной теме статьи, попытаюсь ответить.
Итак, две философские позиции — фундаментальная
онтология и прагматизм. Вопрошание о бытии, ностальгия по «золотому веку»
философии, восприятие современности как эпохи упадка и декаданса — и признание
онтологической равнозначности и относительности всех известных конвенционально-дескриптивных
интерпретаций бытия, констатация псевдореальности «предельных» словарных
структур, метафоричности и произвольности философских понятий. Насколько
эти две философские позиции соотносимы? Можно ли совместить одно
с другим в рамках единой концепции, не нарушая концептуальной целостности,
избегая противоречий и двусмысленности? Не думаю, что это возможно.
Философское творчество Хайдеггера служит прекрасной
иллюстрацией данной проблематической ситуации. Конкретно-феноменологический
анализ «человеческого присутствия», развёрнутый Хайдеггером в «Бытии и
времени», вступает в противоречие с его же позднейшим исследованием западноевропейской
«истории [метафизических интерпретаций] бытия»42.
Сам Хайдеггер уже в «Бытии и времени» пытается каким-то образом разрешить
это противоречие. Многое в его текстах (и в «Бытии и времени», и в последующем
курсе лекций «Основные проблемы феноменологии») указывает на то, что он
всё же склоняется к принципу историзма (т.е. к историцизму)43
в философии —в противовес классической онтологии, метафизике. «Аналитика
здесь-бытия» Хайдеггера представляет собой, как мне думается, не только
и не столько опыт строго онтологического, в традиционном понимании онтологии,
исследования (направленного на прояснение неких универсальных вне- и до-исторических
предпосылок осуществления истории философской мысли), сколько попытку исследования
собственно истории Запада — и только Запада. В таком антирепрезентативистском,
«историческом» русле развёртывается мысль Хайдеггера в «Бытии и времени»
и других сочинениях, относящихся уже к раннему периоду его творчества.
«Само онтологическое исследование, нами предпринимаемое здесь, обусловлено
всецело исторической ситуацией, с которой оно связано»[М. Хайдеггер.
Основные проблемы феноменологии. Цит. по: R. Rorty. Essays on Heidegger
and others. Cambridge, 1995; p. 41.], — говорит Хайдеггер в одной из
лекций курса «Основные проблемы феноменологии». И далее:
«Три указанных компонента феноменологического
метода — редукция, конструкция, деструкция — составляют вместе единое целое
и как целое, в этой взаимосвязи, только и могут приниматься в расчёт —
к продумыванию и обоснованию. Конструкция в философии есть одновременно
и с необходимостью деструкция, то есть — де-конструкция, как прояснение
оснований и переосмысление философских концепций, относящихся к традиции.
..Поскольку конструкция включает деструкцию, философское познание также
предполагает и познание историческое»[Ibid, p 41.].
Кажется, эти тезисы свидетельствуют о строгой
антиметафизической позиции Хайдеггера. Теория деструкции, действительно,
в .существенных аспектах предвосхищает деконструктивизм Деррида, а отождествление
«истории бытия» с метафизикой прямо отсылает к более поздним плюралистическим
доктринам постмодернистов. Философский дискурс практически сводится к историцизму,
онтологическое познание конвен-циализируется, и вроде бы не остаётся повода
для «сожаления», ностальгии по старому, забытому знанию. Кажется, всё так,
но... Привязанность Хайдеггера к архаической онтологии, выражающаяся в
склонности к продумыванию таких вещей, как бытие («истина» бытия), «физис»,
«архе» и пр., слишком явно даёт о себе знать в его текстах. Направление
философствования, которое я пометил термином «историчность», никак не вяжется
с этой теоретико-онтологической интенцией. Между тем, вдумчивое прочтение
текстов Хайдеггера откроет нам, насколько глубоко и исконно присуща она
его мысли.
Во «Введении» к «Основным проблемам», только
что мною цитированным, Хайдеггер, помимо прочего, говорит и о том, что
в наше время
— «позднее» время — философия уже не может
быть тем, чем она была прежде: она утратила своё значение, строгость и
глубину, превратилась в «какой-то варварский ритуал, напоминающий пляску
св. Вита». Теперь философия, пишет он, перестала быть онтологией, приобретя
статус мировоззренческой дисциплины, особой «идеальной» разновидности
научного знания, которое служит самообеспечению субъекта в его господствующем
положении в мире44.
Однако делом подлинной философии, утверждает Хаидеггер, было и остаётся
бытие, т.е. онтология, а не мировоззрение. Этим «делом» занималась греческая
философия. Критика современности сочетается у Хайдеггера с идеализацией
старины. В «Бытии и времени» он выдвигает требование возобновить вопрос
о бытии и вернуться к темам, продуманным некогда греками (с сохранением
форм философствования, стиля и инструментария, выработанного греческой
мыслью). Но я уже говорил, что это требование, это выделение греческой
философии в качестве исключительной и образцовой, никак не вяжется с теми
принципиальными антиметафизическими положениями, которые самим же Хайдегге-ром
полагались в основание его концепции; оно представляется мне утопическим,
абсурдным, одним словом — антиисторичным.
Противоречия и спорные места в текстах Хайдеггера
открывают возможность его интерпретаторам к противоположным, порой взаимоисключающим
истолкованиям некоторых принципиальных вещей. Так, культурную ситуацию
на Западе, сложившуюся к началу XX столетия, мы, следуя мысли философа,
могли бы с равным основанием охарактеризовать двояко: и как ситуацию «упадка»,
«позднего декаданса», и как культурную ситуацию [пост-современной эпохи,
отмеченной чертами «историчности», «стихийности» и «свободы». Характеристика
современности с позиции историцизма предполагает, во-первых, указание на
преходящий характер эпохи, её неповторимость и самостоятельность, и исключает,
во-вторых, представление об историческом развитии как линейном поступательном
процессе, обусловленном действием неких объективных закономерностей45.
Этот взгляд признаёт ошибочным мнение о том, что существующий в данный
исторический период порядок вещей закономерен, что события, предопределившие
нынешнее положение дел, развивались в единственно верной и единственно
возможной последовательности, что сложившиеся дескриптивные модели и логико-лингвистические
конструкты (формы «предельного языка») — подлинно предельны, т.е.
абсолютно достоверны и обязательны. С другой стороны, характеристика «поздней»
эпохи как эпохи упадка и вырождения предполагает с необходимостью выделение
и противопоставление ей какой-то иной, более «ранней» эпохи, но ранней
не в историческом, а скорее в онтологическом смысле — в смысле изначальности,
первичности и предначертанности чего-то. Когда я говорю об «эпохе», то
имею в виду, опять-таки строго следуя мысли Хайдеггера, две веши: мировоззрение
и язык — то, что принадлежит самому существу эпохи и определяет её историчность46.
Так вот с этой точки зрения единственно приемлемым для прагматизма и в
то же время адекватным концептам Хайдеггера представляется мне. определение
«онтологической изначальности» как основополагающего свойства класса истолкований
бытия, отмеченных деструктивностью, сохраняющих, в отличие от множества
других проектов истолкований, ясное и исчерпывающее сознание собственной
«незаконности», сингулярности и конвенционально-дескриптивной фиктивности.
По всей видимости, к этому классу истолкований мы вынуждены будем (следуя
Хайдеггеру) отнести греческую онтологию, имея в виду присущую ей строгую
сдержанность упрощающей и умеривающей себя мысли, скромность и самокритичность,
граничащую со скептицизмом, — в отличие от безграничного произвола и самоуправства,
которыми отмечена метафизика нашего времени. Очевидно, язык и категории
философии, которыми пользовались древние греки, не были для них чем-то
«само собой разумеющимся» в общезначимом смысле [«simply common sense»].
Этот критический настрой и аналитическая способность «вслушиваться» в слово,
употребляемое в речи, эта культура мышления и изречения с течением времени
после греков постепенно сходили на нет, уступая место простому говорению
и повторению сказанного, сменяясь всё большей и большей «непродуманностью»
— в значении безальтернативной категоричности — словоупотребления. И действительно:
субстанция,
монада, представление, воля, власть... Кажется, в самих этих словах
есть что-то такое, что мешает слышать и понимать их.
В статье «О сущности истины» Хайдеггер, рассуждая
о происхождении и путях истинностного истолкования бытия, замечает, что
подлинная и единственная история бытия, история толкования бытия сущего,
начинается с момента вопрошания первого философа-скептика (ирониста [ironist]),
которым ставится под сомнение достоверность и обязательность имеющегося
в его распоряжении языка философствования47.
Причём во-прошание, которым полагается начало истории бытия, касается всего
языка как системы, а не какой-то его составляющей; речь идёт не о частностях,
не о простой замене «неправильного» слова на «правильное», слова «А» на
«В», а совсем о другом: сама наличная лексика и семантика, эта игра в смыслозначимые
слова, правила которой допускают «А» и «В», ставится под вопрос и признаётся
проблематичной, — не потому, что игра «нечестная», так как не соответствует
каким-то критериям достоверности, которых на самом деле нет, а потому лишь,
что это — только игра, одна из возможных игр48.
Вот фрагмент рассуждения Хайдеггера, который представляется мне показательным
в свете вышесказанного:
«Лишь там, где само сущее собственно возвышается
до своей несо-крытости и сохраняется в ней, лишь там, где это сохранение
постигается из вопрошания о сущем, начинается история. Первоначальное раскрытие
сущего в целом, вопрос о сущем как таковом и начало западноевропейской
истории — это одно и то же...»[М. Хайдеггер. О сущности истины. Цит.
по: М. Хайдеггер. Разговор на просёлочной дороге (избранные статьи позднего
периода творчества). М., 1991; с. 18.]
Иначе говоря, нет истории там, где не ставится
под вопрос «сущее как таковое», в привязанности к которому полагает себя
человек, где не остаётся места для сомнения и вопрошания. Люди пред-истории
Запада, жившие до нас в мирах, не менее иллюзорных, чем миры современных
предпринимателей и поэтов, однако не сознававшие этой иллюзорности, также
строили храмы, сочиняли книги и играли в слова, как играем, по другим правилам,
и мы, нынешние. Но для них игра была делом, а не дело — игрой; они
думали, что «дело», в которое они играли, — нечто большее, чем игра. Так,
вне сомнения и вопрошания, вне ясного познания и истории, протекала их
жизнь — в безмятежном покое, в плену привычек, условностей и предрассудков,
— пока этот покой не был нарушен первым вопросом «почему?», спрошенным
первым философом, усомнившемся в существующем порядке вещей.
Предусловием «строгого» познания, каким его
понимает Хайдеггер, познания, свободного от иллюзий и субъективистского
произвола, является отказ от верификационизма. Оно предполагает такое вопрошание
(и на такие темы), какое исключает возможность легко верифицируемых, прямо
или косвенно, ответов, — как, например, вопрошание о бытии
[«Что «есть» бытие? Имеем ли мы право исследовать в «бытии», что
оно такое? Бытие остаётся неспрошенным и само собой разумеющимся и оттого
непродуманным» (М. Хайдеггер. Преодоление метафизики. Цит. по: Время и
бытие. М., 1993; c 184]
. Из такого безответного вопрошания, полагает Хайдеггер, и познаётся,
в её исключительной аутентичности и заброшенности, экзистенция исторического
человека. Человек, собственно, и есть сущее, существо которого — в присутствии
(Dasein) и открытости, в просветлении себя, в осуществлении возможности
своего «вот» и «здесь»; это просветление достигается через
вопрошание о бытии, узами родства связывающем человека с миром, бытии невыговоренном
и непознанном, и потому всегда ошибочно отождествляемом с сущим (предметной
и социальной средой, повседневной жизнью и пр.), в плену которого пребывает
в своём неведении человек пред-истории мысли. Свободное вопрошание полагает
начало истории, конец — господству «разумной животности; оно открывает
простор для развёртывания бытийно-исторического мышления, которое «даёт
ответствовать» самому бытию. Это, говорит Хайдеггер в «Письме о гуманизме»,
— «более строгое мышление, чем понятийное» [М. Хайдеггер. Письмо о гуманизме.
Там же, с. 216.], мышление, выходящее за рамки классической онтологии,
т.е. служащее экзистенциальному
выявлению бытия, а не «техническому»
расчётливо-деятельному обеспечению
его возможности как представленное™
сущего, мышление-сквз, утверждения которого не нуждаются в верификации49.
«Строгость, с какой этот сказ держится дела, — пишет Хайдеггер, — намного
более обязывающа, чем требования научности, потому что строгость свободнее.
Ибо она допускает Бытию — быть» [М. Хайдеггер. Письмо о гуманизме. Цит.
по: Время и бытие. М., 1993; с. 217.]. И ещё: «Сущность истины открывается
как свобода. Свобода есть эк-зистентное, высвобождающее допущение бытия
сущего [das ek-sistente, entbergende Seinlassen des SeiendenJ» [М. Хайдеггер.
О сущности истины. Цит. по: Разговор на просёлочной дороге. М., 1991; с.
20.] («О сущности истины»).
Бытие сущего сбывается как бытие благодаря
высвобождающему допущению, которое, в свою очередь, достигается только
в плане говорения, в языке. Остаётся под вопросом природа этой открытости
и свободы в изречении бытия: какие предварительные условия, какие принципы
понимания и истолкования бытия отвечают требованиям «обязывающей строгости
сказа»? И имеются ли здесь какие-нибудь критерии достоверности? «Так как
истина состоит в сущности свободы, — замечает по этому поводу Хайдеггер,
— исторический человек в допущении сущего может также допустить, чтобы
сущее было не таким сущим, каково оно есть. Сущее в таком случае закрывается
и искажается. Кажимость становится господствующей» [М. Хайдеггер. О
сущности истины. Цит. по: Разговор на просёлочной дороге. М.. J991, с.
19.]. По мысли Хайдеггера, эта кажимость, затемняющая истину бытия,
со временем, по мере развития техники и науки, всё более совершенствуется
и упрочивается, захватывая новые области. Между тем «именно там, где сущее
человеку малоизвестно и едва — может быть, только в самом начале — затронуто
наукой, откровение сущего в целом может оказывать более существенное действие,
чем в тех случаях, когда то, что познано или в любое время может быть познано,
стало легко обозримым и больше не в состоянии сопротивляться знанию, в
то время как техническое овладение вещами выступает в форме безграничности.
Как раз в тиши и глади, где царит только познанное и только знание, откровение
сущего мельчает до превращения в кажущееся ничто, забытое, но уже более
не безразличное» [Там же, с. 20.].
Однако что же именно мыслью, оставляющей сущее
кажимым в его нераскрытое™, предаётся забвению? «Бытие» — ответ
Хайдеггера. Но что же за «бытие»? Само слово ещё мало что проясняет. Ведь
и метафизика, как отмечает Хайдеггер, постоянно и в разнообразнейших видоизменениях
высказывает бытие; между тем истина бытия от метафизики на протяжении
всей истории её остаётся скрытой. А всё дело в том, что метафизическому
забвению предаётся не философская категория — «бытие», и не философская
проблема — «вопрос о бытии»; забвению предаётся исконное понимание смысла
этой проблемы и способ продумывания её. Речь идёт о позиции эк-зистирующего
человека, который несёт на себе бытие-вот, Dasein, в этом «вот» высвечивая
и оберегая истину. Человек, эк-зистируя, выговаривает бытие — таким, каким
оно допущено сущему словом. Но чем доступнее слово, чем привычнее оно для
нас и проще в употреблении, тем менее оно нам знакомо, тем труднее
нам слышать и понимать его, принимать к продумыванию, т.е.,
вообще говоря, воспринимать речь как таковую. Подобного же рода восприятие
предполагает по меньшей мере осознание того обстоятельства, что словарных
структур «законных» в смысле обязательности и исключительной достоверности
выговариваемого просто не существует. Язык служит истолкованию бытия,
но не более. Предать бытие (в открытости, непотаённости сущего) забвению
— значит упустить из виду реальную возможность множества реальных альтернатив
— как языку, на котором мы говорим (или набору понятий, которыми оперируем),
так и, следовательно, сущему, которое нам известно. Это значит не помнить,
не понимать того, что помимо философии, сверх её, существует и поэзия,
сверх логики и расчёта — вымысел и фантазия; что сущее, которое всегда
при нас, не единично, а помимо и сверх его (нашего языка и практики) существуют
другие миры, множество иных, альтернативных планов существования, и что
всё это «другое» и есть, собственно, бытие — всё то, что забыто,
потаено, не выговорено. Мы, по старой привычке, относим поэзию к разряду
творческих «дисциплин», которые, в привязанности к сущему, всегда к одному
и тому же, изучают и отображают что-то действительное, повествуют о чём-то
более или менее известном и равнозначимом для всех — всегда по-новому,
но всегда об одном и том же. Между тем подлинное существо поэзии состоит
не в изучении и отображении действительности, которая поэту, как правило,
безразлична, а в раскрытии и осуществлении новых возможностей и альтернатив,
в изобретении чего-то нового, неизведанного, или, если угодно, в обращении
к давно забытому старому — ироническом, без апологетики и самоуничижения.
Поэзия изобретает и обогащает мир, и в силу этого даёт бытию, т.е. новому
сущему, быть.
В статье Хайдеггера «О сущности истины» за
параграфами, посвящёнными рассмотрению существа истины как свободы, следует
раздел «Неистина как сокрытость». (Сразу оговорюсь: я далёк от мысли, что
предлагаемая мною интерпретация этого текста, запутанного и весьма многозначного,
абсолютно бесспорна.) Хайдеггер здесь пишет, что эк-зистентная свобода
бытия-вот предполагает с необходимостью и сокрытие сущего в целом, сама
она является сокрытостью. «Допущение бытия есть в то же самое время сокрытие».
Смысл данного тезиса — в указании на невозможность или, лучше сказать,
немыслимость одновременного и равноправного допущения к бытийствованию
всех возможных (мыслимых) родов сущего, а также к употреблению — в качестве
средства общения и познания — всех существующих языковых альтернатив. Дело
в том, что для целей общения и познания мы всякий раз можем использовать
только один из имеющихся в нашем распоряжении языков, но не следует забывать,
что существуют и другие. Нужно всегда помнить о том, что помимо «открытости»
нашего истолкования бытия, за его границами, определёнными употребляемым
нами словом, существует ещё необъятная сфера «сокрытого», неизведанного,
потаённого — сфера иных истолкований бытия, нами отвергнутых. Важно иметь
в виду, что это «сокрытое» не есть иллюзорность, не голая фикция, а та
мета-реальность, которую несут в себе невыговоренные слова, та «тишь и
гладь» несказанного, которая делает возможным (различимым) всякое говорение.
Преимущество позиции философского вопрошанил и «вслушивания в слово», как
явствует из рассуждений Хайдеггера, состоит как раз в специфической установке
вдумчивого исследования, ориентирующей сознание на мысленное обозрение
этого «фона» речи.
«Однако, — пишет далее Хайдеггер, — в мире
в тот самый момент, который принимает за своё начало философия, начинается
также ярко выраженное господство обыденного рассудка (софистика)
[Herrschaft des gemeinen Verstandes (die Sophistik)]. Он ссылается на несомненность
очевидного сущего и толкует всякое мыслящее вопрошание как нападение на
здравый человеческий разум и его злополучную раздражительность»[ М.
Хайдеггер. О сущности истины. Цит. по: Разговор на просёлочной дороге.
М., 1991; с. 25.].
Т.е. вместе с началом философии, поставившей
под сомнение существующий порядок вещей и тем самым нарушившей покой «доисторического»
человека, случилось, полагает Хайдеггер, и разделение софистики (в значении
практической деятельности обыденного рассудка) и бытийной мысли (проекта
эк-зистирующего вопрошания, Dasein), определившее дальнейшую судьбу западного
человека. Бытийная мысль вопрошает о бытии и подвергает критическому рассмотрению
представления обыденного рассудка; софистика, в противоположность аутентичному
проекту Dasein, только ответствует, только констатирует и формулирует,
не видя практического смысла ни в каком вопрошании. Софистика «гуманистична»:
она удостоверяет, узаконивает нечто для-человека-полезное; бытийная мысль
только мыслит, только развивается, движется в исследовании,
и если и принимает какую-либо интерпретацию бытия, то одновременно охватывая
движением весь спектр прочих, потенциально возможных интерпретаций. Но
Хайдеггер утверждает, что логика развития западноевропейской философии
такова, что на смену преобладавшей в античной Греции бытийной мысли приходит
к господству софистика («субъективизм»), и этот процесс получает своё завершение
в наше время. Историю западной философии от Платона до Дьюи Хайдеггер изображает
как регресс, как некую девальвацию мысли. Прагматизм оказывается разновидностью
нигилизма, выражением кризиса метафизики. Он рассматривается как порождение
практически ориентированной, софистической мысли. Но так ли это? Справедлива
ли критика Хайдеггером современного «техницизма» и прагматизма и отнесение
последнего к нигилизму?
Полагаю, что нет.
Как историческое явление, прагматизм Дьюи
— и в узком философском смысле новейшей антирепрезентативистской доктрины
опытного познания, и в широком политическом смысле проекта демократической
социальной утопии — революционен и современен. Радикальность инст-румснталистской
концепции в том, что её практическое широкомасштабное претворение (которое
в полной мере ещё не состоялось) позволит создать ситуацию, при которой
свобода воли и мысли, плюрализм точек зрения и возможность планомерного
совершенствования условий человеческого бытия станут обыкновенной нормой.
Достижимо это, в частности, за счёт освоения техники, отнесения её к «сподручной»
сфере и правильного её использования. С утверждением прагматизма «история
бытия» автоматически не перепишется заново. Невозможно обратить исторический
процесс вспять, бывшее сделать не бывшим. Но прагматистская идея явится
новым словом, откроет новую главу в поэме, которая пишется историческим
человеком.
Эта духовно-историческая утопия, по мысли
Дьюи, может осуществиться только тогда, когда «философия сама сделается
практикой, приблизится к жизни, т.е. обратится к исследованию — прояснению
и упорядочиванию — тех простых, но важных вещей, из которых складывается
человеческая жизнь, [и таким образом] сотрётся антагонистическое различие
между строгим научным познанием и эмоциональным переживанием, практикой
и воображением — одно взаимодополнит другое» [Dewey. Reconstruction
in Philosophy. Boston: Beacon, 1957; pp. 212-213.] Дьюи называет это
утопией, но не ретроспективной, а прогрессивной утопией;
она достижима и, в общем-то, уже практически
осуществляется. Но, разумеется, осуществляется не сама собою, а человеком.
Утопия не есть порождение Высшего Разума или Истории, не есть некая идея
мироустройства, привнесённая в жизнь человека откуда-то извне, навязанная
ему;
она есть плод фантазии и расчёта самого человека.
Утопию претворяют в действительность люди, которые руководствуются собственными
соображениями, полагаются исключительно на свои знания, опыт, силу и —
слепой случай [blind luck]. Такова принципиальная позиция прагматического
утопизма Дьюи: с одной стороны — трезвый реализм, интерес к опыту,
восприимчивость к «простым» вещам и «упрямым» фактам, т.е. всему, что определяет
повседневное, реальное бытие человека, с другой — свободное философствование,
изобретательство, подкрепляемое и направляемое ясным сознанием того, что
всё возможно, что не существует никаких априорий, ограничивающих
человеческие возможности, никаких пределов для воли и мысли [there are
no a priori or destined limits to our imagination or our achievement].
«Гуманизм» Дьюи, что бы ни говорил Хайдеггер, имеет мало общего с тем пресловутым
новоевропейским субъективизмом (полагающим абсолютное превосходство субъекта-законодателя
над сущим, ему всецело подвластным), в котором немецкий философ — и совершенно
справедливо — усматривал выражение кризиса, упадка западной цивилизации.
Ведь если субъективизм истолковывает познание как представление
в значении властно удостоверяемой субъектом представленности сущего, не
подлежащей отрицанию, то прагматизм мыслит в принципиально иных категориях
— категориях философского плюрализма и критицизма. Он допускает наряду
с конкретным, опытным путём удостоверенным представлением существенную
возможность альтернативных идей — концептов исследования, или проектов
решения той же самой проблемы. Закон здесь уступает место праву, долженствование
— интересу; на смену абсолютистской модели познания и бытия (репрезентативизм:
тотальное господство абсолютного смыла) приходит концепция демократической
организации и социального процесса, и научного познания, и художественного
творчества. Парадигма власти сменяется парадигмой любви.
Дьюи остался не понят Хайдеггером. Просто
Хайдеггер был философом, философом до мозга костей, слишком философом,
чтобы понять Дьюи. В мире, о котором писал и в котором жил Дьюи,
— мире свободных учёных, предпринимателей, политиков-реформаторов, поэтов-романтиков
и художников-модернистов — Хайдеггер не нашёл себе места. Он смотрел на
вещи глазами философа, во всём искал «философский смысл», и, будучи фанатичным
приверженцем своей идеи, саму историю западноевропейского человечества
склонен был рассматривать сквозь призму истории философии. Он разделял
древнее представление о философии как «науке наук» и «искусстве искусств»,
а следовательно и более позднее представление о политике, искусстве, предпринимательстве,
всех прочих сферах человеческой жизнедеятельности как эпифеноментальных
явлениях, «имеющих отношение» к философии50.
Философское исследование Хайдеггер признавал обязательной предпосылкой
и важнейшей составляющей всякого научного исследования, прежде всего исторического.
Нельзя понять истории Запада, считал он, не изучив обстоятельно его философии.
Из философии он выводил всё: историю, культуру, традиции, политику, мораль.
И вот, исходя из того, что западная философия как метафизика исчерпала
свои возможности, Хайдеггер пришёл к выводу о критическом состоянии западной
цивилизации. Конец философии означает конец всего. С точки зрения прагматизма
Дьюи, ставящего между философией и политикой, политикой и искусством, искусством
и предпринимательством знаки равенства, — вывод ложный, антиисторичный
Антиисторична, с точки зрения прагматизма,
сама исходная предпосылка историко-философской доктрины Хайдеггера — его
идея ретроспекции в историческое «вчера», обращения к «ранней» мысли (с
целью прояснения неких философских основ) и её возрождения. Как показал
Деррида, склонность Хайдеггера к явной переоценке исторического значения
собственной философской доктрины (перспектива развёртывания и претворения
которой мыслилась им как возможность «решающего события» в истории бытия)
проистекает как раз из этой его ретроутопической ностальгии, идеи болезненной
и неотвязной. Если можно в принципе обосновать представление об историко-философском
процессе как закономерном регрессе (девальвации) мысли, то отчего
же, действительно, не предположить, что в какой-то определённый момент,
в «решающей» точке х исторического совершения, всё так же закономерно
изменится, и регрессивная тенденция сменится прогрессивной, девальвация
— восхождением? Возможность регресса предполагает возможность прогресса,
и наоборот. Но прагматизм отвергает концепцию так называемой объективно-исторической
закономерности, и отрицает вместе с тем идею кумуля-тивизма — линейного
поступательного развития общества и культуры. А потому в прагматизме и
не идёт речи ни о «прогрессе» философского знания (Дьюи, например, ничего
всемирно-исторического и значимо-событийного в своей концепции
не усматривал), ни о «девальвации» мысли. Речь идёт о познании как таковом:
опыте как сфере переживаний, активности человека,
методе
как принципе самоорганизации и регуляции человеческого поведения,
мире
как экзистенциальном пространстве, все объекты которого формируются исключительно
познавательными усилиями самого исследователя-экспериментатора. Всё это
— предмет прагматизма: всё то, о чём Хайдеггер вопрошал, и всё, что успел
он «обговорить», но не был в состоянии сам до конца продумать.
Сайт управляется системой
uCoz