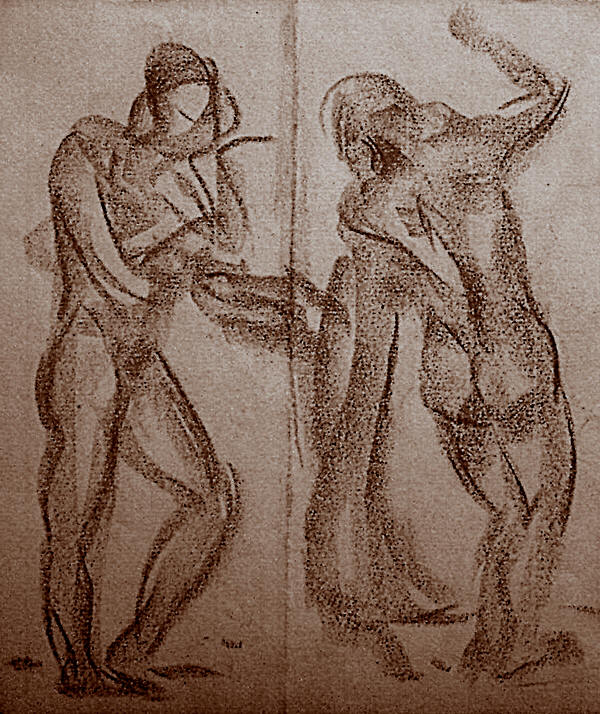|
Вечер - корова.
Пока доцветает пятно моих слез...
лоб ее медленно меркнет
и, вскрыв анатомию улиц костлявых,
фонарей новгородское вече кутейно брюзжит,
как сверлильщики светом в панамах железных,
в стеклянных забралах коровья улыбка дрожит
и локон ее
летит по
асфальту колесиком шпоры
сухим как физалис, бесшумно физалис и странный:
протуберанец огня,
завитушка славянского шрифта...
врата
переходит и вновь по ветру кружит
безобразием памяти тайной...
часовой механизм танцевальной площадки
гремит на делениях брюхом быка верхового
под пяткою Будды,
звук не
очень приятный, но лучше,
чем
мертвенный шорох опавшей листвы...
в окружающих зрелище дебрях сквозных
стенают непрочные горлинки хоров,
раскинув врата укреплений резных
и млечные горы своих разговоров
в
сатиновых холмиках мягких,
дыхательных, лгущих...
и ведьма, как йог, на конце камышинки
сидит безвоздушная
и ни травинки,
в ней нет ни травинки,
ни зелья, ни плахи,
в ней нет мехового газона медведя,
в ней нет пустоты никакого созвездья
в пасхальной скорлупке христовой рубахи,
и тают,
светлей поцелуя змеи белоснежнодвухкрылой
в рефлекторном озере блеска,
две гибких ноги лебедей перочинных...
и Лебедь - этот воск облаков
запятнавший
евангелический текст,
возвращает губам ее огнь,
картавее слова "люблю"
для тех, кто спешит в
Галилею...
бред ее перламутровых волн,
разорвавших Луну,
при паденьи восходят:
протуберанцы златые волос,
тина объятий,
ущербные льдинки зеркал,
толпы мышечных стад:
и трещит скорлупа там где пушечным выстрелом мокрый птенец
открывает ворота свои..
купол
храма ломает,
от ужаса
стынут цапли фонтанов -
хладнокровные дщери молитвами сросшихся ног,
драпируются тьмой испещренные шулеры
лесопосадок,
гудят цеппелины иранских гитар
и резонирует Бог в опрокинутых колбах желаний:
где лампы в долгу у вина,
где происходит всю ночь за паденьем паденье,
и в раскаленных движениях медных цветов
гипнотически вязнут животные части души:
Вакх срывает китайскую тень барбариса,
мальчишка!
В исторической тьме чернозема живет
живот:
золотой безупречною чашей
две темные грозди кишмиша:
генитали ее,
дань ветвей, принесенная в жертву огню,
и стоят не пролив ни единой травинки
черненного луга,
опоясав весельем друг друга,
они,
как фанфары Меркурия в перламутровых крыльях
моллюсков,
и вступает в них единорог:
и спешит за подругой подруга,
раздвигая, сведенные туго,
створки танцем оставленных ног. |