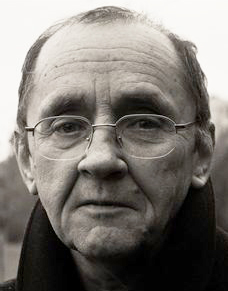 |
АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО |
См. его публикации |
|
ХОЛОДНЕЕ ЛЬДА, ТВЕРЖЕ КАМНЯ |
||
|
Был ли я продолжением шума, его источником, началом, или же голосов, доносившихся снизу? Величественный, одновременно беспомощно-жалкий мир дня неторопливо поворачивал свой гигантский диск, удлинял тени, перекраивал очертания. Травы просты и простираются простыней охры к краям сознания. Как бы в последний раз (каждую ночь в новом приближении) со странно-беспричинным и сентиментальным чувством я касался стволов подсолнухов, шершавых досок забора, будто тесно приникал к осязаемому бальзамическому духу сухой ромашки, вяленой рыбы, и, растворяясь в нем, переходил бесплотный и непобедимый пространством к латунному дребезжанию оконного стекла, изучая тиснения перепончатого перламутра французских духов, кривизну и скорость луча, типографской краски, льда игральных карт и клавиш блютнеровского рояля. Гормональное созревание. Ковры раскрывали спирали суфийских наставлений, и фарфор костяным шершнем жужжал у зубов, расщепляя молекулярные сцепления кофейной пыли, тогда как за окнами, выбеленное до тла полуднем, текло, подобно сухим водам Ковсерь, половодье бабочек-капустниц, которые - теперь я уверился в этом вполне, - уже никогда не оставят то время, подобно тому, как силуэты паровозов ни на секунду не оставляют картофельные циферблаты Кирико. Начало детской любви лежит в центре галактического головокружения абсолютного одиночества. Спокойная ясность опрокидывает: пейзаж является словарем, чьи шелковичные гнезда переполняются исчезновением прикосновений его составляющих - но и тебя самого, окунувшего пальцы в морозный костер собственной тени. Онемение струйками пузырей восходит по артериям. В действительности корни чего бы то ни было висят в пустоте. Вакуумология и вирусология - дисциплины, которым должно объяснить сущее. И этот дар, с годами уходящий неуклонно, как отлив, обнажающий неприглядность неминуемого дна узнаваемой жизни, - единственный, которым ты пытаешься поделиться с другими тогда, и что, как оказывается, не нужно, потому что никого не остается в сквозных клетках упразднения. Но что такое тогда? - смутное ли это указание на должное произойти время, исполнение, или же короткий, необязательный кивок куда-то туда, назад, вспять: “тогда”. Что тогда? Эта способность убывает с годами, и когда наступает следующий прилив, ты входишь в него избавленным ото всего, что стояло между тобой и ничто. Насекомые, чьи подкрылья исписаны палевыми письменами, сухи и неприглядны. Залив, острова, снег, камень, принимающий любые формы. Не передать, как чудовищно безлюдны и скучны зимние вечера на пустынных улицах города, где прошло детство любого. Немощный электрический свет висящих где-то вверху голых ламп, сиреневые сумерки, снежная крупа, стук замерзших ветвей в огромных хоромах акаций. Ни теней, ни тьмы. Но страшнее пробуждения в 6 часов утра - занятия в школе начинались в 7, - ничего не было; однажды, однако, мне пришлось столкнуться с явлением, не имевшим никакого отношения к моей обычной жизни: легко вьюжило, я вышел из дому как всегда за минут десять до начала уроков (школа находилась в двух кварталах от дома) и обнаружил себя через полчаса на вокзале, вернее на улице, ведшей к нему, совершенно в другой стороне. Вечером, лежа в постели, я еще и еще пытался проникнуть в провал утреннего разрыва времени, - раз за разом повторял в воображении всю цепь следовавших друг за другом примет действительного: завтрак, выход из дома; видел поземку, ощущал необыкновенно пронзительное прикосновение снега к лицу, запахи, мерзлую сбитую землю тротуара, взвешивал и умножал до умопомрачения детали, прозревая в них еще большие множества свидетельств реальности. Но, несмотря на все свои усилия и упорство, я не мог восстановить единственного мгновения - единственной непостижимой точки потери “сознания”, “перехода”, которая должна была служить чем-то наподобие дверей, но куда? - к прожигающей искре, мгновению обнаружения себя? Куда ушло двадцать или сколько там минут? Где я был? Кем? Царственной, бескостной улиткой, парящей в пурпуре материнских вод? - но, исполненному безмолвия и тихого смеха Бодхисаттв, сколь долго суждено было восходить к зеркальной поверхности вне отражений, вне имен и голоса? Божественную малость этой точки ни ум, ни чаяние человеческое не способно ни уместить, ни расположить в намерении так же, как и в воспоминании, - много позже скажет Отец Лоб. В зябкое октябрьское утро мы будем сидеть на крыше предназначенного на снос дома, рассматривая стаканы в руке и муравьиное шевеление Сенной под нами. Память ничего не сохранила из этого отсутствия. Стало быть, я действительно отсутствовал? Где? Почему? Мог ли я впасть в обморочное состояние и в то же время идти, переходить уже оживавшие улицы, не привлекая к себе внимания? Возможно, я спокойно разговаривал с прохожими о птицах и елках. “В действительности существует два вопроса, между которыми растянуто наше воображение, скажет Отец Лоб, некогда известный в миру как Алексей Лобов, системный программист и хаккер: “Действительно ли я умру?” - и: “Действительно ли то, что я жил?” Изначально бессмысленны, как и вообще всякий вопрос, но любой ответ разваливает их взаимное равновесие. Тогда что остается?” Я лежал в постели и чувствовал как холодеет лицо - до сих пор мне не приходилось еще сталкиваться с подобной несправедливостью. Обида была непомерна. Бог - есть совершенное по форме алгебраическое яйцо. Но случившееся ветвилось в иное. Произошедшее зимним утром, не имея в моем словаре ни места, ни времени, ни описания, ни определения, ни даже отдаленного сходства с чем бы то ни было в опыте, тем не менее, продолжало существовать и теперь уже совершенно неотделимо от меня самого. Иными словами, я стал ощущать в своем существе некую, возможно чуждую мне, но нескончаемо манящую форму иного существования, открыть которое мне еще только предстояло, - во всяком случае, так думалось. Но сколько лет потом, просыпаясь зимой с радостным предощущением возможной разгадки, я выходил из дома, пытаясь скрупулезно повторить все особенности того утра, вплоть до поворота головы, количества шагов, мелькавших мыслей, сжимаясь в какое-то подобие шелковичного червя, в фигуру абсолютного покорного ожидания (ведь мне нужно было просто понять, и только; ничего другого я не преследовал), замерзая, теряя себя, леденея от ярости, оставаясь, тем не менее, там, где я был, на улице, под серым небом, за стеной бесполезных и совершенно прозрачных глаз. Вся дальнейшая жизнь складывалась частью из таких бесповоротно обреченных попыток приближения к давно миновавшему утру - книги, женщины, путешествия, простиравшие свою власть далеко за пределы вещей и снов, боль, которая, как позднее выяснилось, вовсе не принадлежит человеку, невзирая на то, что берет в нем свое “начало”, так же как и все остальное, пребывающее в хрупком равновесии на краю словесного усилия, вопреки его интенсивности, в потоке которой воображение кажется пустой горошиной, обреченной нескончаемому танцу в самообольщении невесомости и бесконечности. Отнюдь не боль принадлежит человеку, но только ее иллюзия - страдание, которое он присваивает с такой же корыстью, как и все остальное. И вот, если будешь упражняться в применении боевых колесниц, то будет благоприятно, куда выступить, тогда как беспорочность уйдет в созерцании скул и верного движения. Мало ли что может привлекать внимание. Оконные рамы, высушенные плоды, подсказывающие причудливость очертаний не имеющего именования, линзы, вращающие прозрачные поля достоверности на нитях сотканных ими лучей. В дождь человеческие запахи усиливаются. Оптика знания, не имеющая к видению ни малейшего отношения: но в поле зрения не “знание”, а так, оборванный анекдот - какая-то коммуна почитателей Гурджиева, эвкалиптовые рощи на бурых холмах вдоль океана между Сан Диего и Лос Анжелесом, хотя расследование начинается с юга России, где, в секте хлыстов, ее видели в последний раз, - но, как бы то ни было, все эти поспешные образы оказываются ничем иным, как результатом последовательности взаимосвязей черного и белого. Наступает временное перемирие. Цвет возникает из его отсутствия, подобно тому, как приходит реальность всевозможных “я”, “ты”, “эвкалиптов”, “реальностей”, “отношений” и т.п. В чем заключено бессилие отказаться от этого? Что залегает под этим слоем? Только лишь одно осознание существования некой машины, живущей по своим, отстоящим от тебя, законам? Но сама “машина” - что она такое? Сцепление нескольких смехотворных метафор? Возможно, просто челночное колебание сомнения в ее существовании, смирения пред ней же, и, безусловно, мятежа. Скрипящей двери. Наклоненное к стене зеркало у двери, укорачивавшее днем меня и мое время, ночью оставляет несложные уловки и дышит едва подрагивающими, уловленными месячным сиянием в безветрии, облаками: “Во мне происходит несколько жизней, однако ни в одной из них мне не находится места. Мне кажется, что это ощущение тебе хорошо знакомо, мне кажется, оно знакомо всем”. При обстоятельном разглядывании, будто проникая сквозь плеву век, зеркала запаздывали на тончайшую долю предощущения, выказывая природу жидко кристальной матрицы теней; в зазор ожидания полного схватывания, овладевания отражением того, чем оно порождалось, летела пыльца бессонницы - пыль сомнения в изначальности того либо другого. Только обмен, переход, развеществление в образовании мнились существенными, хотел ты того, или нет. Ночью ты не спишь, избирая в качестве поводыря шепот, остывшие углы которого чисты от теней, слепяще-безучастны, и нет теней, как нет заглавных букв и знаков препинания. Страсть ли это? Но осень. Числа, отражающие себя в круглых колодцах материи, поэты с испитыми ртами и, сведенными судорогой руками смывающих другу друга формул, уголь, раскаленный тростник, звон и птицы в криптах известняка. Не проявленное невозможно забыть. Память присваивает только то, что определяет прошлое, тело, - как если бы не хватало цвета; словно моя рука, ведшая линию в размеренном сокращении пространства “оплывала”, расползалась, подобно пятну туши на влажной бумаге, теряясь, прежде всего, в законах чувствования ее телесности, а затем в инее, где одно грезит двумя, но не преступает предела первоначального, но возвращения нет, и ветхий младенец не радуется собственной радости - сухие семена, вспышка холодного октябрьского ветра, отзвук голосов, никому не принадлежащих, как если бы самое “никто” могло бы быть принадлежностью, приоткрывающей сцену, на которой несколько ряженых слов, рассеянных в игре, разыгрывали бы простоватую комедию ревности, щекотки, зеркала и пудры или - первовзрыва, разделения (является ли младенец эротическим телом матери?), как в анатомическом театре. Отделение ткани, едва сдерживаемое удивление тому, что завеса ничего не сокрывает: ни голубя, ни червя, ни золотой монеты, ни - “кто ты?”, ни горбуна, приводящего в замысловатые движения бессмысленные фигурки автоматона. Нас создает глаз. Остальное помечено слабыми прикосновениями карандаша. Можно сделать выбор: так ли необходимо это, или настоятельно требует введения в повествование, как продолжение узнаваемых линий судьбы и тающих голосов ранним утром, когда едва-едва слышно биение городских камней. Или же вычеркнуть - отослать, сослать в поля ссылок, муравьиные царства стрекочущих ресниц, снеся в петит бормотанья ракушечной риторики. Весы умирания. Я не пленял птиц. Взвесь, оседающая на стены зрения. И то сказать, наконец стала понятна древняя хитрость - килограмм пуха оказался тяжелее килограмма железа, идущего на хлеба, сапоги и время. Сон мнился продолжением всего, к чему бы ни обращались ум, воображение. Изумрудно сгорала мошкара, в миг вспыхивающей встречи с иной материей отклоняя огонь свечей от прямых осей тьмы. Передвигая машинально вилку по скатерти, отец, не поднимая глаз от рук, говорит: - Ожерелье Индры. - Кольцо на его безымянном пальце бездымно гаснет. - Что-что? - Спохватывается смущенно мама и поправляет волосы, будто освобождая их золото, все золото мира от снов света, летящих из кухонного окна во двор, как от чего-то заведомо лишнего, чрезмерного. Видишь, она собирает со стола? Картинка приходит в движение, но как необыкновенно, безнадежно она пуста. Я вижу. Я также вижу, как она выпрямляется и прислушивается. Но, кто она? Она? Ты только что сам назвал ее... Я не говорю нет, но я не об этом... - Вот-вот, сеть Индры. - Повторяет отец, склоняя бритую голову. Мы движемся по кругу, на короткое время попадая в тень яблони, затмение, новолуние, холодные волосы, вода, кровь и листья. Как будто ничего и не было! Словно мы - тогда и сегодня. Но угадай тогда, где - сегодня? Где колыбель противительных союзов? Из каких пространств перемещаемся в какие, оставаясь недвижными камнями, собственной непосильной ношей? “Неужели минута превращения желания в несколько капель пота на твоих прикушенных губах, в твою влагу, в мою сперму, в это особо волшебное прикосновение рук, - заключает в себе (потому что исчезает) все без исключения: империи, длительности, смысл которых отстоит рассудка, их не приемлющего, понимание, хруст костей, бессилие, вой, рвы, засыпанные известью, стыд за то, что мы должны быть, нас самих, равно как и всевозможных богов, взирающих на себя с недоумением, в то время как они покидают пределы, положенные нам? Так чего же стоит это, если в одно мановение ока оно рассыпается, не оставляя даже понимания того, что испепеляет это, носящее высокомерное в собственной неуязвимости имя реальности? Ломаного гроша...” Продолжительный монолог неубедителен и требует быть расписанным на два голоса. Мы ищем второй голос. Другого не существует. Мы наделяем речью собак, глину, минералы, Бога, водоросли и элементарные частицы, включая сны. Речь (наученная собою) взыскует другого как ограничение, позволяющее ей возвращение (представление такового описываемого ею круга часто служит предпосылкой мысли о целостности), но поскольку его не происходит, речь становится невесомой казнью соответствий тому, через что она проходит, смещаясь по бесконечно длящемуся удалению, невзирая на обилие примет и знаков, чье количество как бы должно служить гарантией ее достоверности. Прекрасно. Хотя, о чем я только что говорил? С каким вопросом я обращался к тебе? Но после ты поворачиваешься и не видишь стула, - был ли он иллюзией, или же он есть: иллюзия, продолжающая ею быть, становясь в тебе, завоевывая тебя пядь за пядью, покуда не превращает тебя самого в собственное отсутствие (да-да, разумеется, невозможно наблюдать бездну продолжительное время). Но здесь стоял стул. Нет, здесь стоял стол, ломившийся от яств. Оставь, не нужно больше вина, набрось лучше мне на плечи одеяло. Как долго повторять - осень. Думал ли ты, что эта пора года настигнет нас у Великого океана? Как странно, прошло почти сорок лет. Я нигде не мог отыскать твоих следов. Их не было, как будто не было тебя, как и всего остального, следом чего являюсь я, как меня уверяют. Что ж, непонимание - всего лишь безыскусный силок любви... его уши, глаза, нос, рот - на службе у жизни. Поэтому ими надлежит управлять. Из этого отрывка явствует, что язык, взыскуя другого, становится осенью, измерения которой охватывают свершение каждой вещи. Что остается в ней, после того, как она исчерпывает свой цикл? - остаток - смутные указания на стороны света, но и их число зависит от того, кто и как намеревается взглянуть. Наверное, нам осталось одно - смотреть друг на друга и меняться местами. |
||